Кривцун Олег Александрович
д. ф. н., профессор, академик Российской академии художеств,
специалист по теории искусства, психологии творчества,
философии культуры.
Эта статья не только о том, как происходит адаптация к еще не освоенным языкам искусства. Статья намного шире. Она рассказывает, как в наш мир входит все новое, как перенастраивается и расширяется сознание, как меняется отношение человека к искусству и миру в целом. За исследованием, казалось бы, частного вопроса можно почувствовать, как меняется жизнь и сам человек, как происходит его взаимодействие с творческим процессом, который требует встречного внутреннего движения. Через, казалось бы, конкретную проблему мы ощущаем, как будет меняться сознание, какие подходы будут приходить на место сложившимся. Автор уловил нечто общее в самом процессе формирования нового, что ценно не только для поклонников искусства, но и для любого мыслящего человека.
В каждом обществе функционируют социально адаптированные и неадаптированные формы художественного творчества; последние выступают как «чужое», не принимаемое коллективом. Между освоенным и неадаптированным возникает напряжение. Такого рода «зазор» между полнотой художественной жизни и теми ее формами, которые допускает социум, есть следствие сосуществующих в любом обществе разных социально-психологических и мировоззренческих ориентаций.
|
|
Гетерогенность (разнородность, множественность) одновременно сосуществующих процессов художественного творчества — характерная черта любых культур в XX и XXI веках. Наряду с авангардным творчеством, описываемым в терминах модернизма и постмодернизма, в современной России существуют и функционируют традиционные формы, художественное наследие прошлых веков. При этом, как свидетельствуют прикладные социологические исследования, произведения минувших эпох — «высокая» классика, реалистическое искусство, адаптированные формы искусства импрессионизма, экспрессионизма, кубизма, сюрреализма, зачастую интересуют более, чем творческая продукция, создаваемая нашими современниками, а также авторами «актуального искусства».
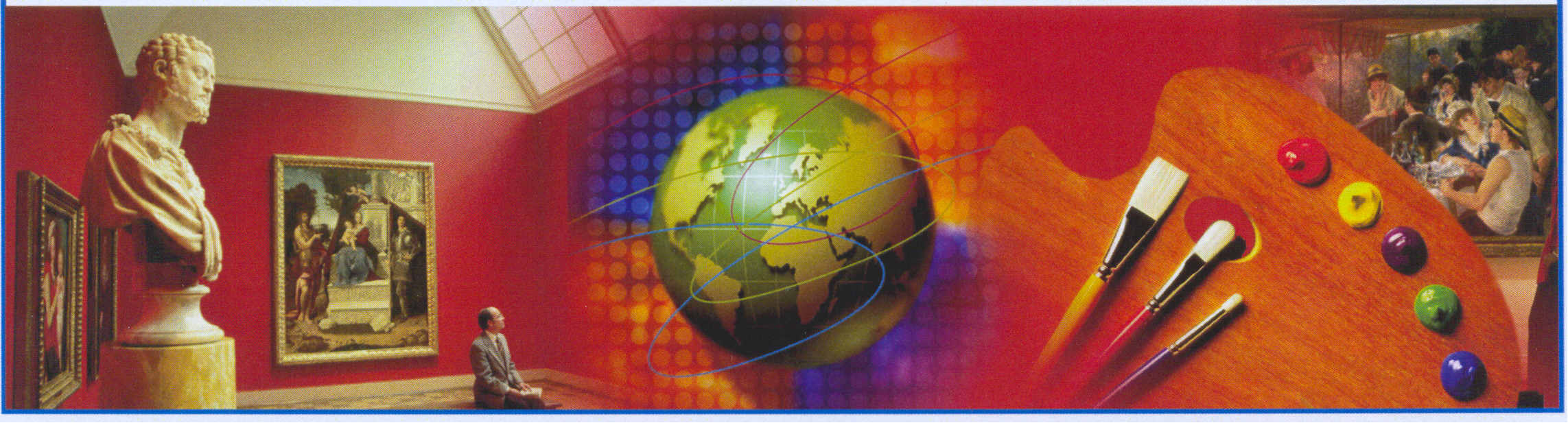
Так или иначе общество вынуждено вступать в контакт и реагировать на то, что, по мнению его социальных институтов, выступает в качестве художественно непонятного и даже «чуждого» мира. Полагаю, что желание считаться с тем, что в данный момент общество не разделяет, есть признак зрелой цивилизации, обладающей набором способов совершенствования самой себя (выделено мной — О.К.) Новое искусство, как правило, выступает источником беспокойства, нарушающим гармонию существования, разбивающим социальный гомеостаз (установившееся равновесие между элементами социального целого).
Эквиваленты между общественным состоянием и направленностью художественного творчества пытались выявлять издавна. Может ли отрицательная энергия общественных противоречий преобразовываться в художественно-продуктивную энергию? И напротив, способны ли произведения искусства, проникнутые духом нигилизма, приводить к оздоровлению общественной атмосферы? Эти вопросы и сегодня стоят в центре нашего внимания.
Еще в 1930-х годах патриарх американской социологии Льюис Мэмфорд выдвинул такую формулу социально-художественных связей: «Когда общество здорово — художник усиливает его здоровье, когда общество больно — художник усиливает его болезнь». С одной стороны, Мэмфорд фиксирует отношение, когда тот или иной тип социальных связей и условий выступает важнейшим компонентом, определяющим продуктивность или непродуктивность художественной деятельности. Однако, с другой стороны, здесь возникает взгляд на художника только как на транслятора общественного состояния, которое он наблюдает. «За скобками» остаются креативные способности художника, возможность его как творца выходить за границы данного мира, видеть дальше и глубже современников.
С того времени когда искусство рассталось с мифопоэтическим сознанием в качестве своей непосредственной и спонтанной почвы, оно уже не выступает единственным фактором формирования картины мира, держит свои «мифопоэтические приемы» в запасниках, используя их с целью достижения тех или иных красок художественной выразительности. Последние же страстно хотят заполучить в своих целях политики, требуя от искусства таких способов разрешения социальных конфликтов, которые не выходят за пределы функционирования наличных социально-культурных структур. В качестве основного конфликтного узла, формулируемого социологией искусства, выступало, таким образом, противоречие между безграничными, по сути, возможностями искусства и их социально-прагматичным использованием.

Чему нас научило искусство последнего столетия? Обратившись к истории художественных интерпретаций человека, можно заметить, что экзистенциальные мотивы в искусстве не являются более мрачными, чем сама экзистенциальная философия. Разумеется, «действительный внутренний мир» человека — это всегда разлад с самим собой. Множество внутренних противоречий дают о себе знать каждую минуту; жизнь человека снова и снова рассыпается у него в руках, он постоянно носит в себе раскол, перелом, пустоту, зияние, пропасть, конфликт.
И все же почему «мера человеческого» постоянно модифицировалась в истории искусства? Любой крупный художник, по существу, человек внутренне свободный, волевой, самодостаточный. Он не транслирует общепринятые нормы в своем творчестве, не воспроизводит уже адаптированные обществом представления, а вырабатывает свои, интерпретирует современные ему состояния мира в их значении для человека. По этой причине каждый художник — стихийный экзистенциалист. Любое крупное произведение живописи Нового времени раскрывает нам человека как целый микрокосм, вмещает в интерпретацию его существа множество антиномий. От Рембрандта до Курбе, от Веласкеса до Пикассо, от Мане до Джакометти произведения искусства демонстрируют амбивалентность человеческого: у него инстинкты, у него сильные природные страсти, зачастую опровергающие любую рациональность. У него ревность, зависть, мстительность, тщеславие… Одновременно человеку присущи бескорыстие, милосердие, стремление к справедливости, усилие познать истину. Вместе с тем человек авантюрен. Человек азартен. Так какой же должна быть мера человеческого в искусстве?
Мое интегративное наблюдение за художественным процессом побуждает сделать вывод, что в ряде случаев творчество само без оглядки на привычные нормы не раз выступало с манифестацией новой меры человеческого в истории культуры. При этом художественные послания авторов, их смелые образные эквиваленты окружающего мира вступали в заметные трения, нестыковки, зазоры с ожиданиями социума. Как известно, инерция уже освоенного, узнаваемого чрезвычайно сильна в художественном вкусе любых эпох. Предлагая свою интерпретацию мира, обнажая раны и уязвимости человека, погружаясь в глубины его подсознания, искусство систематически «надламывало», казалось бы, абсолютный, бесспорный «масштаб» человеческого и заявляло новую антропную меру. В то же время всякий раз мы бывали свидетелями того, что общество не готово принять новый язык искусства, «легализующий» непривычную визуальность, заставляющий зрительскую оптику перестраиваться. Социум болезненно реагирует на малейший сдвиг в интерпретации адаптированных и привычных норм, как общекультурных, так и художественных, будь то новая трактовка принципа художественной целостности, смелое сопряжение гармонического и дисгармонического, динамические эксперименты с композицией, неожиданные цветовые и световые решения, «расшатывание» необычной иконографией миметических предпосылок образа.
И сегодня художественное творчество есть постоянное преодоление неопределенности хаоса и упорядочивание, структурирование бытия. Структурирование даже там, где в мире и в искусстве налицо незавершенность, открытая форма. Если современный художник не желает спрямлять и «подрессоривать» острые диссонансы современной жизни, он принужден включать все бередящие человека антиномии в свой образный строй. Для пластических искусств такая ситуация, признаем, особенно трудна: ведь художнику все время приходится решать задачу претворения тревожных, разрушительных образов мира и вместе с тем думать о том, чтобы произведение и воспринимающий его человек «не застревали» на интонации обреченности, краха, катастрофы. Человек в этой жизни проигрывает, но проигрывать надо достойно, — пожалуй, именно в таком регистре объединяются многочисленные экзистенциалистские теории. Отсюда и пожелание для художника — стремиться парадоксальным образом соединить в своем творчестве пессимизм знания и оптимизм воли.

Этическая высота созидающего новые формы — в самом по себе усилии художника осуществить творческий жест. Усилии тем более затратном, чем более релятивны свойства окружающего мира. Особого рода трудность в том, что сегодня нет единой отправной точки, которая задавала бы опознавательный критерий: искусство перед нами или же неискусство. Поэтому работа, которую призван выполнить любой зритель, пришедший на выставку современного искусства, состоит в необходимости решить непростую задачу: как следует перенастроить свое зрение, чтобы смыслы и пластические метафоры, заложенные в произведение, входили в тебя?
И здесь чрезвычайно важно нам всем понимать, что классические критерии искусства (мера, гармония, порядок) сегодня не являются некоей раз навсегда данной догмой. Они соседствуют с другими, не менее убедительными признаками художественного качества. Так, фермент художественности способно излучать яркое артистическое начало. Столь же сильным опознавательным признаком художественности выступает и аура произведения искусства, его внутренняя энергетика.
С середины XIX века прекрасное рассматривается уже не как коренное предназначение искусства, а лишь в качестве одной из его возможностей. Место нового опознавательного признака искусства стало занимать понятие выразительного.
Если ранее мерилом художественного качества выступали понятия целостности, гармонии, завершенности, то сегодня теоретики говорят о таких приемах языка искусства, как открытая форма, намеренное моделирование незавершенности, резкое столкновение контрастов, разных стилевых приемов в одном произведении, дисгармоничные созвучия колорита, отсутствие единой центральной оси картины и возникновение взамен так называемого пейзажного видения, пейзажного типа построения пространства и тому подобное.

Иными словами, наша художественная память уже столь насыщена разными стилевыми приемами письма, что это формирует более гибкий художественный вкус, умение прилагать к произведению присущую ему меру. Совмещение в нашем сознании самых разнородных «оптик» приводит к парадоксальному заключению: современный человек нуждается не только в структуре, в точках опоры, но и в бесструктурном, ауратическом, в том, что ускользает, колышется, на глазах меняет свой облик.
Из всего сказанного следует признать, что у искусства есть одна аксиома: все утвердившееся, освоенное не может быть местом искусства. Каждый художник, если он не хочет стать эпигоном или ремесленником, начинает с чистого листа. Сквозь приемы языка современных отечественных художников проступает профиль искаженного жизнью человека, но человека, пытающегося говорить, пытающегося с напряжением произвести человеческий жест в нечеловеческом мире. Наиболее значимые творения искусства последних десятилетий свидетельствуют о том, что художественное качество не коренится в удовольствии от гладких произведений, побуждающих к расслабленности и отдыху, а рождается из чувства дискомфорта, беспокойства, «поэтической хромоты», художественного поиска на совершенно неожиданных основаниях.
Еще и еще раз, обращаясь к современным формам, мы задаем себе вопрос: где искусство, а где профанация? Я исхожу из того, что любое творчество — это не обычная, а экстраординарная способность человека. То есть даже для малого эстетического жеста требуется определенное усилие. Это усилие может быть спонтанным, но не неряшливым. Марина Цветаева по этому поводу не раз говорила: если вы не понимаете моего творчества, я хотела бы, чтобы вы ценили вложенный в него мой труд!

А посему важно бережное отношение к новым творческим опытам, пусть даже поначалу непонятным, вводящим нас в растерянность. Ведь, строго говоря, любое художественное высказывание не может быть истинным или ложным, ибо вне его самого не существует критерия, которым можно было бы измерить данное произведение.
Напряжения и конфликты между новыми языками искусства, зондирующими скрытые спектры человеческого, и той мерой человеческого, которая понятна обществу, очевидно, будет всегда. Очень уж сильна инерция получения удовольствия от узнаваемого, того, что открывается без усилий. Об этом зачастую свидетельствуют даже приоритеты художественной и интеллектуальной элиты. В таких случаях зрительский опыт входит в противоречие с непременным условием обновления художественного языка как способа его адекватного существования в культуре. Постижение незнакомого требует от зрителя известной мобилизации, встречного внутреннего движения, но к этому, увы, готовы не все.
Не претендуя на целостный охват, очерчу ряд тенденций языка современной живописи, интенсивно работающей над поиском новой выразительности:
Это тенденция, которую я обозначил бы как «мягкое распредмечивание» картины, когда узнаваемые образы модифицируются в выразительные силуэты. А силуэты также претерпевают сложную транскрипцию, превращаясь в цветовые пятна, контуры, блики. Возникает как бы промежуточное состояние между художественной миметичностью и экспрессивной абстракцией. Одновременно сильны и обратные приемы: пространство холста столь искусно насыщается переплетением цветовых и пластических знаков, что при внимательном всматривании в, казалось бы, абстрактной картине начинает проявляться изобразительная структура. В обоих случаях перед нами произведения, требующие от зрителя «насмотренности» глаза, богатой ассоциативности, воображения, сотворческого участия в игре и замысловатых переходах формы и «метаформы».

В сегодняшней художественной практике акцентированно заявляет о себе и такой творческий ход, как явление «открытой формы». Наша художественная память ныне столь уплотнена, что в моделировании намеренной незавершенности композиции, в усилении значения отдельной детали или фрагмента картины автор видит способ усиления креативности содержания.
Ощутимая тенденция современной живописи (как и кино, театра, музыки) — это культивирование способов дословного художественного письма, непрорефлектированное воссоздание реальности. Ближе всего к этому сфера мистериального, а также особые способы «бриколажного письма» в живописи, в поэзии. Область дословного — это своеобразный «гул бытия», живущий вне известных языковых конструкций.
Авторитетной остается практика, культивирующая посредством языка искусства парадоксы и алогизмы нашего мышления и культуры. Ее усилия связаны с намерением продемонстрировать огромное количество неопределимых связей, случайных сопряжений, влияющих как на жизнь индивидуальности, так и судьбы социума. Здесь возвышается культ интуиции как прозрения, не опирающегося на доказательство.
И наконец, я отметил бы декоративность живописного письма. В расцвете декоративного начала проявлено желание художника созидать жизнь, а не просто воспроизводить ее. Решительный акцент на фактуре, технике мазка, на самом «веществе живописи» объясняется стремлением насладиться чувственными энергиями искусства, раскрыть витальную силу бытия.
Как и в прежние эпохи, современные языки искусства оказывают влияние на гуманистические основы общества, на его этический климат, но это воздействие весьма опосредованно, неочевидно. Полагаю, что через изобразительное искусство формируются особые градации чувствительности, эмоциональной включенности, способности к «внутреннему диалогу», собеседованию и сопереживанию. Хочется полагать, что эта тонкость опосредованно переносится затем и на поведение человека, на выстраивание отношений с другими людьми.
Если нечто сегодня мы называем искусством, то, как правило, делаем это на разных основаниях. Каждая встреча с незнакомым произведением побуждает нас вновь и вновь настраивать и перенастраивать наше зрение. Если человек к этому способен и стремится, значит, его натура со временем становится более пластична, такой человек умеет быть не категоричным, не агрессивным, способным к диалогу, к толерантности, к принятию иных точек зрения.

ДИ №3\2014





















