ПОЭМЫ-СКАЗКИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ: К ВОПРОСУ ОБ ИНИЦИАЦИИ ГЕРОЯ
Тема героя занимает в Живой Этике одно из центральных мест. В предлагаемой читателю статье героическое начало рассматривается через творчество Марины Цветаевой. Автор рассказывает о необычном восприятии реальности поэтессой, о ее ощущении времени и смерти, мировой гармонии и космического совершенства. Отдельное место в статье занимает образ «огня». В поэтике Цветаевой ему отводится особенное место. Он символизирует творчество и страсть, очищение и восхождение, «свечение Сути» и высшую любовь. Ее интерпретация Белого огня, его чистоты и силы созвучна цветовому значению, которое мы находим в книгах Живой Этики. Интересна интерпретация финалов цветаевских произведений, где гибель героев рассматривается как условие возрождения к лучшей более совершенной жизни.
Полехина Майя Михайловна
доктор филол. н., профессор кафедры русского языка
и литературы Одинцовского гуманитарного института.
В мифопоэтической картине мира М. Цветаевой одно из важнейших мест занимает философско-эстетическая категория времени. Основополагающая роль в художественной космогонии поэта отводится первоначальному времени. Подразумеваемый идеал этого верования состоит в том, что только первое явление какой-либо вещи значимо. Для М. Цветаевой оказывается близким «витальное» восприятие реального, которое проявлялось в своеобразной трактовке Времени, его течения: все большее удаление от его «начала» воспринималось как утрата первоначального совершенства. Все, что происходит во времени, разрушается, распадается, вырождается и, в конечном счете, погибает. Неисчерпаемость и могущество всегда присутствуют вначале, по Цветаевой, при этом неисчерпаемость быстро утрачивается. Все совершенное, гармоничное, плодоносное, «космизированное» — священно. Идея совершенства начала имплицирует следующую трактовку: для того, чтобы случилось нечто истинно новое, нужно полностью уничтожить остатки старого цикла. Для достижения абсолютного начала конец мира должен быть самым радикальным. Эсхатология есть префигурация космогонии будущего. Новое творение не может совершиться, пока мир не будет окончательно упразднен. Конец мира представляет из себя гигантскую и чрезвычайно драматически насыщенную проекцию на макроскопическом уровне ритуальной системы празднования Нового года.
В книге «Священное и мирское», исследуя особенности временных категорий, Мирча Элиаде обнаруживает необычайный интерес к «первоначальному времени». Священный календарь при этом он рассматривает как акт «вечного возвращения» к ограниченному числу божественных проявлений, и это, по мнению Элиаде, «справедливо не только для первобытной, но и для всякой другой религии»1. Любой ритуальный праздник представляет собой возвращение к одним и тем же первичным ситуациям и, как следствие, восстановление самого акта священного Времени. «Религиозному человеку воспроизведение в настоящем одних и тех же мифических событий придает великую надежду: каждое такое воспроизведение дает ему возможность преобразовать свое существование, уподобить его божественному образцу»2.

Таким образом, повторение образцовых жестов и встреча с мифическим Временем начала, освященного высшими ценностями, ни в коем случае не предполагают пессимистического взгляда на жизнь; напротив, именно благодаря этому «вечному возвращению» к истокам священного и реального собственное существование представляется человеку защищенным от небытия и смерти.
Итак, чтобы обрести новое, высшее качество, герою необходимо пройти череду испытаний, преодолев которые, он наделяется новым знанием, становится посвященным. Иногда этот путь завершается гибелью героя, но гибель эта заранее предрешена и определенным образом мотивирована: возрождением в новом, более совершенном статусе. Период между этими двумя фазами равен времени инициации, следовательно, сакральному времени. Инициация, таким образом, рассматривается ядром человеческого существования. Однако переживая кризисы, провалы, падения, герои Цветаевой мечтают не о возвращении к прошлому, а о возвращении чувств прошлого. Смерть, реальная или мнимая, получает свое истинное позитивное значение. Она подготавливает новое бытие, духовное или физическое возрождение. Таким образом, инициацию можно рассматривать как частный случай реализации восстановительного цикла.
В героях Цветаевой всегда подсознательно живет стремление к совершенству. Отсюда концептуальная значимость финалов цветаевских произведений. Показательны финалы «фольклорных» поэм Марины Цветаевой «Царь-Девица», «На Красном коне», «Переулочки», «Молодец», поэмы «Крысолов», где гибель героев рассматривается как условие их будущего возрождения. Чтобы произошло нечто чудесное в жизни персонажей цветаевских произведений, они преодолевают тысячи препятствий, испытывают всякого рода искушения, сражаются с демоническими силами, чудовищами, стихиями и, выдерживая испытания, посвящаются в герои: обретают сверхчеловеческие, почти божественные качества.
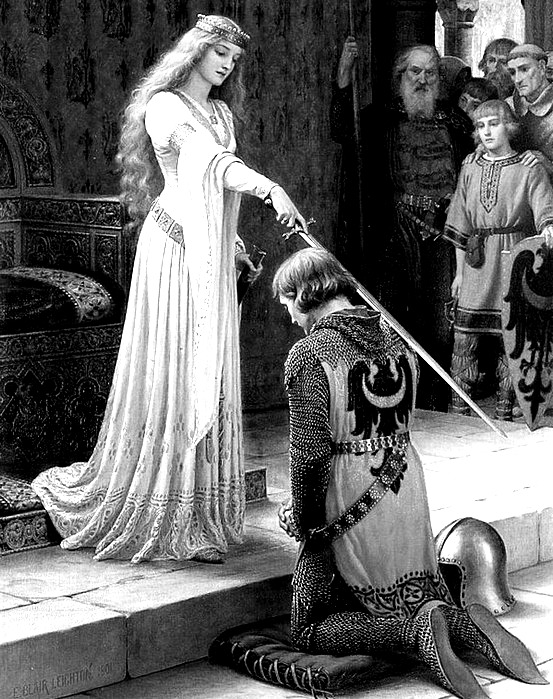
Но подобное преобразование художественного микрокосма и макрокосма в произведениях Цветаевой подготовлено всей логикой последовательного развития сюжета в ее поэмах.
Обезбоженный мир, зараженный ложью, распутством, пьянством, погружается во мрак в финале поэмы «Царь-Девица». Исходная позиция Цветаевой — ее представления о герое как существе тварном и вместе с тем являющемся соучастником созидательного процесса, соавтором земной красоты и гармонии. Пренебрежение героя своим предназначением влечет за собой естественное наказание. Как неосуществленная мечта, таящая в себе возможное возрождение Царевича, звучит в произведении Цветаевой мотив полета, мотив «расправленных крыльев», однако в контексте поэмы «Царь-Девица» этот образ обретает амбивалентный характер, оборачиваясь образом «некрыльев», ассоциируется с «низом», мраком, пленом, гибелью. Сокрушение традиционных представлений не осуществилось, заветное свидание не состоялось. «Полет» как разрушение онтологического уровня и переход к другому способу существования, к полной свободе оказался недоступным герою. Вместо традиционной свадьбы героя и обретения им власти, которыми обычно завершаются сказочные сюжеты, поэма Цветаевой заканчивается разрушением сказочного царства и гибелью героев.
Заключительная главка поэмы с характерным названием «Конец» рисует апокалиптические картины «шабаша», «восстания сатанинских сил». Актуализируются эсхатологические мотивы. Царству Царя-Кумача, царству «псов-антихристов» «дрянцо, бессапожье, ощебья, отребья, бессолье, бесхлебье, рвань, ягоды волчьи, — да так себе — сволочь!»3 от имени Красной Руси выносится приговор. Ценой своей земной жизни, являясь частью бездуховного, пошлого мира, Царевич разрывает порочный круг, связующий его с близкими, совершая прорыв к абсолютному бытию. Выносится приговор современности с ее хаосом, бессмысленными кровопролитиями, ложными ценностями и абсурдом.
Показателен финал и одного из лучших цветаевских произведений поэмы-сказки «Молодец». Молодец оказывается не оборотнем, а «переворотнем» и, согласно мифологическим представлениям, проклятие может быть снято с упыря той, которая полюбит его таким, каким он предстал перед девицей — чудовищем. Для нее же — он — единственный возлюбленный, проклятый становится благим, зло, завораживающее своей чудовищностью, расплывается в своих очертаниях, ад и рай меняют свои характеристики, смерть воспринимается чудесным даром: «Оттого что ад/ Мне кромешный — рай: / С молодцем! С молодцем!» (III, 296). «Чистота, полюбившая нечисть», так складывается ситуация изначально. Но некая трансформация происходит и с самой героиней Цветаевой — Марусей. Она «процветает» алым цветом — сначала во сне, а затем — на снегу, замеченная молодым барином. Показательно и финальное преображение-окрыление героев: последним земным прибежищем становится для них церковный храм.

Встреча героев предрешена всем течением предшествующих событий. Церковное пение и «стекла звон» заглушают звуки названного ИМЕНИ, в яростном пламени Маруся и Молодец узнают друг друга: «Ты ?! — Я!» (III, 339). В цветаевской Марусе исследователи видят не что иное, как оборотническую ипостась довольно благонравной афанасьевской девы4.
«Огнь — синь» оказывается последним «домом» героев, к которому они устремлены, местом сакральным, «осью мира», «центром земли». Образ «огня» в мифопоэтической системе Цветаевой занимает особенное место, символизируя собой страсть, темперамент, творчество, восхождение и очищение. Наряду с основной, креативной функцией, огонь несет в себе и разрушительное начало, уничтожение, гибель. Цветаевское «огнь — синь» подобно «огненному столпу» Н. Гумилева, является символом дьявольского пламени, разрушающего и созидающего.
Гибель, умерщвление в стихии огня у М. Цветаевой представляется фазой процесса, следующим звеном которого является возрождение для иного мира, иного предназначения. Обращает на себя внимание цветовая символика образа «огнь — сини». Красный и синий цвета составляют антиномическое единство, в христианской традиции символизируют милость и истину, красоту и добро, земное и небесное, то есть те начала, которые в реальном мире разделены и противоборствуют, а в Боге соединяются и взаимодействуют (Пс. 84. 11). Красным и синим пишутся одежды Спасителя, эти цвета выражают тайну Боговоплощения: красный символизирует земную, человеческую природу, кровь, жизнь, мученичество, страдание. Синий цвет передает начало божественное, небесное, непостижимость тайны, глубину откровения. В образе «огнь — сини» открывается единственная высшая реальность для героев М. Цветаевой, место сакральное, соединяющее небесное и земное. Однако данная ситуация может расцениваться и как переход к сверхчеловеческому состоянию, вознесение и устранение космоса как такового, абсолютную свободу. Разлом священного здания, онтологический разрыв, связанный с переходом с Земли на Небо и вознесение, в восточных философиях рассматривалось как преодоление естественной среды человеческого обитания, уничтожение личного космоса и всякого устроенного мира.
Спустя много лет, вновь возвращаясь к своей поэме, М. Цветаева назовет участь Маруси «вечным проклятием». Особенно сопереживала она судьбе оставленного ребенка — «дитя, обожаемое и покинутое, потому что детей с собой в Ад не берут». Путь «домой — в огнь — синь» героев рассматривается поэтом как путь к возрождению через уничтожение, более того, через «ад». Отсюда так логично стремление героини соединить ад и небо Бога. Разгадка поэмы — в неназванном, но подразумеваемом имени Молодца. Цветаева вшифровывает его в строфу, предвосхищающую кульминацию поэмы: «Огнь — и в разлете/Крыл — копия/Яростней: — Ты? / — Я!» (III, 339). Имя, сокрытое, но подсказанное рифмой и ритмом — Азраил. В восточной мифологии Азраил — ангел смерти. Однако, неся с собой смерть, он неволен в своих злодеяниях, он лишь выполняет волю Всевышнего.

Обладая даром предвидения, Азраил иногда являлся к своим жертвам, предупреждая их о приближающейся кончине. Нередко исследователи связывали образ Азраила с «гением одиночества», ищущим искупления в любви смертной девушки5.
Интересно заметить, что спустя месяц после завершения «Молодца», М. Цветаева создает двухчастное стихотворение «Азраил», где окончательно определяет сущность загадочного персонажа, его магическую роль в судьбе героини. Азраил не просто «ангел смерти» (такое восприятие мифического героя значительно упрощало бы трактовку образа), он тот единственный, в лике которого воссоединяются смерть и любовь («жажда любви — жажда смерти»).
«Последним любовником» назовет М. Цветаева Азраила, судьбою предначертанным «в рассветных серостях». И если первые невинные шаги в жизни делаются под покровительством Херувима, юность пребывает в чистоте и непорочности, руководствуясь идеалами, благословляемыми свыше (отсюда образ Архангела Гавриила — посланника Божьего), то зрелость несет на себе печать вины, греха и искупления за страсть и за любовь. Поэтому так логично цветаевское отождествление Молодца-упыря с Азраилом, любовь — со смертью. Узнанные друг другом и названные по имени, они двое — одно («Свились, взвились»), «равносильные», «равномощные», «равносущие».
Любопытен еще один момент, нуждающийся в специальном комментарии. Поэма завершается примечательной записью «Прага, Сочельник 1922». Н. К. Те-летова в статье, посвященной поэме М. Цветаевой «Молодец», рассматривает символику древнейшего праздника — Сочельника, связывая его прежде всего с символикой круга. Круговое, хороводное обнаруживается и в структуре цветаевской поэмы: «Все смыкается в бесконечности большого кольца композиции, первого и последнего слова поэмы — синь — синь»6, — завершает исследователь свои наблюдения. Некоторые моменты предполагают разъяснений.
Сочельник для нас интересен прежде всего в связи с символикой конца и начала, завершения старого цикла и начала нового. Образ «дома в огнь сини» в финале поэмы дан как образ «не — дома» или разрушения традиционных представлений о доме в обычном понимании. Это подчеркивается графически, разрушается структура слова: «До — мой в огнь синь». Это может быть прочитано как «мой (Азраил, Молодец-упырь) в огнь синь» и «До — » (редукция слова — умолчание, свидетельствующее, безусловно, о неопределенности — временной, пространственной) — (до) возрождения, восхождения, воскресения «свившихся» и «взвившихся» «единосущностных».
Для воскрешения в новом качестве необходимо, чтобы конец был полным, абсолютным.

В письме к Пастернаку от 22 мая 1926 года, возвращаясь к разговору о «Молодце», М. Цветаева писала: «... мне все равно, куда лететь. И, может быть, в том моя глубокая безнравственность (небожественность). Ведь я сама — Маруся: честно, как нужно (тесно, как не можно), держа слово, обороняясь, заслоняясь от счастья, полуживая (для других — более, чем — но я-то знаю), сама хорошенько не зная для чего так, послушная в насилии над собой, и даже на ту Херувимскую идя — по голосу, по чужой воле, не своей.
Я сама вздохнула, когда кончила, осчастливленная за нее — за себя. Что они будут делать в огнь — синь? Лететь в него вечно...» (VI, 249).
Что этот полет? Самоцель или путь к просторам чистого Духа? Ни в 1922, ни в 1926 годах ответ на этот вопрос не был найден. Но М. Цветаева его мучительно искала и внутренним зрением видела другой огонь — «белый». «Белый (бог) может быть силой бел, чистотой сгорания?.. То, что сгорает без пепла — Бог» (VI, 249). Это высший огонь, высшая любовь, которая ни с чем внешним не связана, которая сама себя питает и ни в чем не нуждается, «свечение Сути», «Неопалимая купина». Это тот светоносный столб жизни, поскольку «силою бел, чистотой сгорания».
Продолжая разговор о финале цветаевских произведений, обратимся еще к одному из показательных произведений поэта середины 1920-х годов «Крысолов». Если в поэме «Молодец» трагический финал приглушен ощущением радостного воссоединения героев в полете, в их чудесном вознесении в «огнь синь», драматичность финала поэмы «Крысолов» с описанием чудовищной гибели детей в озере («Пу — зы — ри») сгущена до предела. Увод детей в водное пространство связан с процессом инициации, уводом в иной мир и предполагаемым возрождением для новой жизни. В связи с этим уместно вспомнить замечание Цветаевой о том, что факт убийства неоспорим, но, быть может, Крысолов — именно тот палач, который «...дарует смерть, а не ...лишает жизни» (V, 477). В связи с последним утверждением уместно вспомнить совсем раннее стихотворение Цветаевой «Молитва», где провозглашается идея «вожатого» детских душ: «Вести детей вперед, сквозь тень.../
Чтоб был легендой — день вчерашний, / Чтоб был безумьем — каждый день!» (III, 33).
В системе мифологем М. Цветаевой водная стихия связана как с «горизонталью» (для крыс — это заболоченный пруд, где они нашли свой конец), так и с «вертикалью» (для детей — это чистое озеро). Ритуал очищения в водах был одним из таинств посвящения в древних мистериях. Так как вода, по мнению орфиков, являлась первоначалом мира, то душа обычно очищалась в водных стихиях, чтобы в новом качестве явиться в сей мир. Контакт с водой так или иначе заключал в себе идею космологическую, идею второго рождения.

В книге «Творчество М. И. Цветаевой в контексте культурной мифологии Серебряного века» Н. О. Осипова рассматривает отражение детской темы и водного пространства в фольклоре и библейских источниках. Ею упоминаются сказочные мотивы падения детей в колодец, переход в иной мир (райский мир), сюжеты о потоплении детей в омутах, морях, озерах, откуда они выходят «краше прежнего». Любопытна библейская история о младенце Моисее, брошенном в реку, сюжет, основанный на древних мифологических моделях смерти-рождения через воду. На христианской почве упоминаются апокрифы и песнопения о смерти детей Ефрема Сирина: «Хвала тому, Кто изводит отселе юность и переселяет ее в рай! Хвала Тому, Кто поемлет детей и оставляет их в чертоге блаженства!»7.
Утверждая идею «детского рая» в финале поэмы как акта творения, аналога библейского созидания мира, Н. О. Осипова связывает эту идею с особенностями композиции произведения. В отличие от библейской космогонии, согласно которой в течение шести дней был создан мир, в поэме М. Цветаевой этот мир постепенно разрушается, как бы «сворачивается» в обратную сторону, к своему первоначалу, к «водным» истокам мироздания. Вместе с тем водное пространство «Крысолова» ассоциируется и со сказочным пространством града Китежа, дух которого притягивал сознание М. Цветаевой в период работы над поэмой. Мотив Китежа заключал в себе общенациональный символ гибели и Воскресения, идеалы сокровенной истины и красоты, таящиеся в глубинах души русского человека. «Крысолов» таким образом продуцирует идею «Исхода из тупика Жизни», идею Воскресения. Подобное мифотворчество и миротворчество стали для Цветаевой своеобразными формами компенсации неполноты и несовершенства жизни, свидетельствующие в свою очередь о новом качестве ее поэзии — переходе от реальности через преобразующую призму памяти в над-временность, в сферу экзистенциальной тематики и новых жанровых дефиниций.
1 Мирча 1994, 110
2 Мирча 1994, 77
3 Цветаева 1994, 269
4 Лютова 2006, 395
5 Телетова 1988
6 Телетова 1988, 86
7 Осипова 2000, 89-90

ЛИТЕРАТУРА
Лютова С. Н. 2006. Метафоры оборотничества в поэме «Молодец»: Образы и образа Марины Цветаевой // Лики Марины Цветаевой. ХШ Международная научно-тематическая конференция (9-12 октября 2005 года) / И. Ю. Белякова (ред.). М., 391-403.
Осипова Н. О. 2000: Творчество М. И. Цветаевой в контексте культурной мифологии Серебряного века. Киров.
Телетова Н. К. 1988: Поэма М. Цветаевой «Молодец» // Звезда. 6, 106-110.
Цветаева М. 1994-1995: Собр. соч.: в 7 т. М.
Мирча Э. 1994: Священное и мирское. М.
Журнал «Проблемы истории, филологии, культуры». 2012 г.
ЮРГИС БАЛТРУШАЙТИС
ЮРГИС КАЗИМИРОВИЧ БАЛТРУШАЙТИС
2 мая 1873 – 3 января 1944
Ныне и присно
А. Скрябину
Все, что трепещет иль дремлет
В тайном кругу бытия,
Строго от века объемлет
Мера моя.
Слитность и вздох одинокий,
Колос и цвет на лугу —
Смертные грани и сроки
Я стерегу.
Тот, кто в незнаньи беспечен,
Тот, кто прозреньем томим —
Каждый незримо отмечен
Знаком моим…
Правя земною игрою,
Вскинув-смиряя волну,
Я разрушаю и строю,
Сею и жну.
Солнце в светающем небе,
Искра в ночной тишине —
Каждый раскрывшийся жребий
Замкнут во мне.
Грянув, как молот суровый,
В вечном и тщетном бою,
Я расторгаю оковы,
Цепи кую.
Мука влекомых на плаху,
Ласка мгновений людских,
Все умолкает по взмаху
Крыльев моих!

Мой храм
Мой светлый храм — в безбрежности
Развернутых степей,
Где нет людской мятежности,
Ни рынков, ни цепей, —
Где так привольно, царственно
Пылает грудь моя
Молитвой благодарственной
За чудо бытия…
Мой тайный храм — над кручами
Зажженных солнцем гор,
Мой синий храм за тучами,
Где светел весь простор,
Где сердцу сладко дышится
В сиянии вершин,
Где лишь туман колышется
Да слышен гул лавин…
Моя святыня вечная —
В безгранности морской,
Где воля бесконечная —
Над малостью людской,
Где лишь тревога бурная
Гремит своей трубой,
Где только высь лазурная
Над бездной голубой…

* * *
Я видел надпись на скале:
Чем дальше путь, тем жребий строже,
И все же верь одной земле,
Землей обманутый прохожий…
Чти горечь правды, бойся лжи.
Гони от дум сомненья жало
И каждой искрой дорожи —
Цветов земли в Пустыне мало…
Живя, бесстрашием живи
И твердо помни в час боязни:
Жизнь малодушному в любви
Готовит худшую из казней.
Отчизна
Я родился в далекой стране,
Чье приволье не знает теней…
Лишь неясную память во мне
Сохранило изгнанье о ней…
Знаю… Замок хрустальный стоял,
Золотыми зубцами горя…
И таинственный праздник сиял,
И цвела, не скудея, заря…
Помню, помню в тяжелом плену
Несказанно ласкательный звон,
Что гудел и поил тишину,
И баюкал мой трепетный сон…
И средь шума забот и вражды,
Где я, в рабстве, служу бытию,
Лишь в мерцаньи вечерней звезды
Я утраченный свет узнаю.
Оттого я о дали родной
Так упорно взываю во мгле, —
Оттого я, в тоске неземной,
Бесприютно влачусь на земле…

Ступени
Мы — туманные ступени
К светлым высям божьих гор,
Восходящие из тени
На ликующий простор…
От стремнины до стремнины —
На томительной черте —
Все мы гоним сон долинный,
В трудном рвеньи к высоте…
Но в дыму нависшей тучи
Меркнут выси, и блажен,
Кто свой шаг направил круче
По уступам серых стен…
Он не слышит смуты дольней,
Стона скованных в пыли,
Перед смелым все привольней
Глубь небес и ширь земли…
Дремлет каплей в океане
Мир немых и тщетных слез, —
Мудр, кто в тишь последней грани
Сердце алчное вознес!

Кормчий
В ярости бурь, в океане,
Старец седой у руля
Держит в бестрепетной длани
Жребий и бег корабля…
В строгом служении дали,
Вечны в случайности дней
Древние пальцы из стали,
Пламя под снегом бровей…
В беге сквозь пену, сквозь брызги,
Взрытые синею тьмой,
Строен в их свисте, в их визге,
Кормчий глухой и немой…
Только в смятении диком
Вскинутых к небу валов
Чудится, слитый с их криком,
Хохот проклятья без слов…
Волею, с бурей союзной,
Мчит молчаливый Старик
Утлый, громоздкий и грузный,
Дрожью охваченный бриг, —
Мощью, не знающей меры,
В море, не знающем дна,
Гонит Он трепет Галеры
К берегу мира и сна…

AVE, CRUX
Брось свой кров, очаг свой малый,
Сон в тоскующей груди,
И громады скал на скалы
В высь немую громозди...
Божий мир еще не создан,
Недостроен божий храм,—
Только серый камень роздан,
Только мощь дана рукам.
Роя путь к твердыне горной,
Рви гранит, равняй холмы,—
Озари свой мрак упорный
Искрой, вырванной из тьмы...
Пусть взлелеет сны живые
Отблеск творческой мечты,
И чрез бездны роковые
Перекинутся мосты...
Лишь свершая долг суровый,
В миры лени, праздной лжи,
Ты расширишь гранью новой
Вековые рубежи...
Лишь предав свой дух терпенью,
Им оправдан и спасен,
Будешь малою ступенью
В темной лестнице времен...

* * *
Мне голос был средь смертной яви —
Свой Посох крепче обойми,
Ведь ты лишь гость в земной забаве,
И плачешь в мире не с людьми…
Твой путь бездомный не отсюда,
Один мужайся и бреди,
И обретешь рожденье чуда
В твоей тоскующей груди…
Сквозь свет, сквозь слезы в час метельный,
В скитаньи мужествуй, доколь
У грани дали беспредельной
Не станет вешним цветом боль.
Видение
А. Скрябину
Мелькает некий Храм святой
Сквозь дым времен…
От мира огненной чертой
Он отделен…
Его святые алтари —
Как звездный щит,
Где ярче утренней зари
Потир горит…
Все пенье наших дум и слов,
Наш смертный жар,
В хвале его колоколов —
Один удар…
От слуха скованных в пыли
Их звон далек…
И ропот дня и гул земли
Его облек…
И вечность горьких ступеней,
Сквозь пыль, сквозь тьму,
Из мира скорби и теней
Ведет к Нему.
И лишь ценою всех тревог,
Всех слез, потерь,
Увидит мир Его порог,
Откроет дверь…























