URBI EТ 0RBI, ИЛИ ПОЧЕМУ В ПЕТЕРБУРГЕ ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ УМНЕЕ?
Сегодня город на Неве отмечает 315-ю годовщину со дня основания. Его судьба полна самыми разными событиями: героическими и трагическими, эпохальными и рядовыми, знаковыми и прошедшими мимо внимания людей… В статье излагается концепция формирования духовной среды города, влияние на ее становление различных исторических фактов и явлений.
Статья во многом противоречивая, как противоречив и сам Петербург. Это – необычный город. Он, по словам автора, обладает своеобразной «суггестией»: очаровывает, воспитывает, учит... Многие люди, впервые оказавшиеся в северной столице, сразу чувствуют особенную энергетику города. Это явление обычно объясняется исключительно внешними факторами – великолепной архитектурой, прекрасными парками, скульптурными ансамблями, царственными дворцам и т.д. Но причина не только в них. Источниками таких энергий являются люди, пронизанные этой красотой. Она на протяжении многих поколений формировала особый менталитет петербуржцев, которые с малых лет были окружены образами высокого искусства. Совокупность их энергий создавала духовную атмосферу города.
Высокие энергии очень различно влияют на человека, проявляя в нем, как самые лучшие, так и худшие качества. Отсюда те противоречия, которые нашли место и в публикуемой статье.
Константин Глебович Исупов
д. ф. н, профессор.
Российский государственный педагогический
университет им. Герцена, кафедра эстетики и этики.
Как известно, дураков везде хватает. Но есть дураки перманентные, а есть регулярные. В Петербурге трудно быть дураком [1]. Мировой опыт шутовства и дурачества, юродства и чудачеств показывает, что всякого рода карнавализация обыденного идет обыденному на пользу. Только в Петербурге могли объявиться славные митьки, которые в своих эскападах демонстрируют что угодно, кроме одного: ложное самоуничижение. Это люди умственной наивности, за которой стоят серьезные претензии ко всякой мнимой значительности.
Петербург как-то по-особенному «выпрямляет» человека и делегирует ему возможности оперативной деконструкции личности, т. е. разрушения-созидания в режиме персоналистской самосборки. Почему эта пропедевтическая функция выпала именно Невской столице и какие ее качества тому способствовали?
* * *
Непосредственный опыт общения с людьми, выросшими в Петербурге, убеждает в наличии особого рода суггестии [2], эманируемой Городом; результатом ее действия оказывается ряд аксиологических стратегий, предоставленных на выбор объектам фасцинации. Вкратце их можно свести к трем моделям; ниже мы суммируем их поведенческие симптомы.
Модель 1. Она характеризуется повышенным эмоционально-волевым фоном, на котором воспринимаются факты обыденной реальности. Здесь полезно разделить 'факт' и 'событие'. Факт — это простейшая наличность повседневной действительности, не вписанная в каузальный ряд, это «жизни пестрый сор» (Пушкин). Но факт, способный развиться до способности детерминировать другие факты, начинает бытийствовать в сложных архитектониках Бытия, он теперь есть событие в ранге и в функции события. Событие — это факт, уличенный в смысле. Факт ничего не обличает и ни за что не отвечает, он всего лишь — случайный элемент быстрой и мелкой жизни, частица броуновского движения. Он лишен семиотической природы. Но как только в нем, в этом бестолковом и ни к чему не отнесенном факте, опрозрачнивает, обнаруживая себя, смыслоозаренный эйдос, мы наблюдаем онтологический метаморфоз или, точнее, преформацию глупого факта в умное событие. Иначе говоря, как только факт обогащается значением и прообразуется в событие, само это значение события становиться событием значения.
Подобным образом для Андрея Болконского, который пытается разобраться в фактической мешанине военной ситуации, приходит к ее пониманию, когда факты получают в его глазах статус события, т. е. когда они «незаметно, мгновение за мгновением, вырезаются в свое значение». Вот эти «свои значения» событий, эйдосы событий, предъявляющие себя как события значений (а не сами события, которых уже нет), и есть история [3].
Результатом этих преобразований мелочного сора жизни в семантически богатые событийные композиции обитатель Петербурга начинает ощущать себя в новых ценностных векторах: ретро- и перспективе большого (осевого) времени. Таков важнейший результат первой модели аксиологического преображения «я» в объятьях Петербурга: новый тип историзма. Сколько в составе такого историзма от памяти Запада, а сколько — от опыта Востока, мы обсуждать не будем, но напомним все же, что европеизм в петербургской идеологии доминирует.

Модель 2. Здесь важнейшее место заняли процессы отвердевания «я» и дискомфортное ощущение границ своей личности в мире Других, Чужих, Посторонних, Единственных, Прочих и иных персоналистски маркированных личностей. Чтобы непосредственно ощутить границы своей личности, требуются не самососредоточение и не традиционные практики погружения в глубины самосознания, а интенция на внешний объект. Это хорошо знали йоги и дзэн (чань)-буддисты, а на Афоне — наши исихасты.
Петербург, отвлекая на себя внимание своих обитателей, компенсирует их любопытство редчайшим даром, кстати, единственным, на который способен Город: он возвращает человеку не найденную им самостоятельно целостность личностного самосознания. Город креативно провоцирует формирование механизмов ауторефлексии в режимах обостренного самоопознавания и самоосознования. В некотором апофатическом пределе эти процедуры не кончаются добрыми трофеями. Вот тут-то мы приходим к третьей, весьма удручающей по содержанию, модели.
Модель 3. Самообнаружение «я» в себе — катастрофический по результатам процесс. Среди всех типов Встречи [4] встреча с собой — самая ошеломительная, и человек никогда к ней не готов. Первые итоги такой Встречи — заброшенности в Бытии, одиночества, тоска, хандра и меланхолия, — словом, все то, что классический романтизм, впервые переживший подобный опыт, назвал мировой скорбью и вселенским сиротством.
Петербург — город отчужденных, одиноких людей — таким его подает нам классическая литература. В своем отрицательном пределе скульптурирование Петербургом «я» доводит эти формообразующие операции до экстремума. У Достоевского мы видим на образе Раскольникова, как загнанное в угол «несчастное сознание» доходит до фантазма автономной этики, а затем — до преступного нормотворчества.
Однако человеку Петербурга необходимо было пройти через мученические инициации головного прожектерства, чтобы выйти к людям, Миру и Богу в полноте диалогической открытости.
С этого момента Петербург начинает оправдывать запасенное в нем культурное будущее: он непрерывно генерирует (лепит, формирует, воспитывает, учит и переучивает) поразительных по одаренности людей, превращаясь в некий интеллектуальный инкубатор.

* * *
Чтобы понять формирование описанных выше аксиологических стратегий, стоит присмотреться к составу духовного тела Петербурга и к его исторической памяти, коль скоро топос Невской столицы оказался зоной энергичного присвоения малых мира сего и весьма активной, даже агрессивной переделки (не путать с «перековкой» и «перестройкой»!) человека обычного в Homo Petropolis.
Новая культура возникает как игра. В Преображенском шла игра всерьез: Гордон нешуточно учил ружейным приемам и взятию крепостей, артикулу и фортификации. Игрушечные бои завершались нешуточными увечьями солдат-мальчишек — сверстников молодого государя. На потребу морской потехе сооружается ботик с игрушечными пушечками по бортам. Маскерады и фейерверки в Немецкой слободе также не были забыты.
С позиций византийского благолепия (т. е. московской) открытое попрание традиций не прощалось даже в игровой форме. Когда царь подрос, а его занятия из сферы прекрасной бесполезности перешли в разряд насущного государственного деяния, всякая игра кончилась (если быть точным, игровое начало в петровской культуре никогда не исчезало без остатка: оно видоизменилось, перейдя в формы ассамблей, Всешутейшего Собора и т. п.). Мир развлечений, как и иные формы гражданского поведения, в эпоху Петра строился рационально. Неявка на ассамблею означала манкирование царским указом. Идеальное государство Платона, где все пляшут и поют под строжайшим водительством начальников, осуществлялось в России наяву и внедрялось в державный механизм законопослушания.
Петербург — осуществленная утопия. Это город-эксперимент, будущая модель всего государства. Он торопливо обрастает сначала внешними признаками мировой столицы, чтобы могла начаться решительная обработка человеческого материала: ритуализация общения на новый лад, тотальная регулярность во всех планах поведения — от лично-бытового (кофе, табак) до сословного (иерархия чинов в отдельной семье отражала общегосударственную «Табель о рангах»). Петр строил Европу внутреннюю (с чертами регулярного государства, что не во всем ему удавалось) и Европу внешнюю (экспорт европейской «наружности»).
В результате Петр выстроил не мировой город, а макет мировой столицы. Учрежденные им органы государственного управления также на первых порах были полуимитацией, полуреальностью.

Гость Петербурга (окт. 1773 — март 1774), Дидро проницательно указывал императрице на уязвимость Петербурга как пограничного города. «Страна, в которой столица помещена на краю государства, — говорил Дидро, ссылаясь на слова С. К. Нарышкина, — похожа на животное, у которого сердце находилось бы на кончике пальца, или желудок у большого пальца ноги». Дидро не смог удержаться от совета обнести Петербург поясом стен, «достойным римлян». Французский просветитель то мыслил мировую столицу в образе живого органического тела, то представлял ее себе как улей, что в целом соответствовало западноевропейской традиции и мировой мифологии полиса-организма.
Но замысел Петра I осуществлялся наперекор этой традиции: в облике Петербурга все резче проявлялся поединок цивилизации и природы. Преобразование «натуры» в человеческое гнездо может мыслиться при этом и как пересоздание национального типа (характера, стиля жизни). А. П. Сумароков скажет в 1755 г.: «Петр природу пременяет, / Новы души нам влагает» [5]. Ср. у В. К. Тредиаковского: в «Похвале...» 1752 г. («О! прежде дебрь се коль населена! / Мы град в тебе престольный видим ныне!») или у И. Ф. Богдановича в 1773 г.: «Петром основанный, преславный ныне Град, / Где прежде царствовал единый только хлад» [6].
Среди проектов «идеального Города», воплощением которого должна явиться новая столица, известен и отвергнутый план Ж.-П. Леблона (1717), в котором угадываются черты исторического центра Москвы. Со временем над всеми включениями в пространственные объемы Петербурга ренессансного классицизма, ампира, готики и барокко встал принцип паноптикума — сквозной обозримости, топологической однородности и геометрической непрерывности, т. е. имперский принцип единодержавного контроля и управления всеми сегментами государственной реальности из любой ее точки. Петербург осуществляется как идеальная Модель Империи и как ее градостроительная парадигма.
Социально-психологической основой для восприятия Петербурга как «обобщенной мировой столицы», воспроизводящей в своем облике силуэты столичных центров, служили, помимо прочих, два важных обстоятельства: 1) восприятие Петербурга как старого города; 2) эклектическая архитектурная стилистика.
В. К. Тредиаковский в «Похвале Ижерской земле...» (1752) сказал: «Уж древним всем он ныне равным стал <...>». Образ ускоренного исторического времени, в котором пребывает и ширится Петербург, становится обязательным для отечественной петербургологии. Так, автор знаменитого «Конька-Горбунка» в «Прощании с Петербургом» (1835) отстаивает ту мысль, что только с Петром I «Святая Русь <...>, иной жизнью расцветая, Годами веки протекла!..» В соответствии с формулой «Годами юный, ветхий славой» П. П. Ершов утверждает древность Петербурга не календарно-археологически («годы»), а ценностно-исторически («слава»).

Петербургу было суждено стать городом, стилевой доминантой которого оказалась эклектика; итогом ее оказалась рядоположенность таких архитектурных опытов, которые в другой ситуации не решились бы на обретение общего пространственного контекста. Так, храм Воскресения, именуемый иногда Спасом на Крови, открыто рифмующимся с московским Покровским собором (Василия Блаженного), выведен по горизонтальной линии Екатерининского канала на семантическое сближение с римской колоннадой Казанского собора, столь же откровенно рифмующегося с центральным архитектурным символом католического мира — собором св. Петра. Город, пространственные вертикали которого охотно сочетают готический шпиль и башню минарета, ростральную колонну и луковку православной церкви; город, ставящий в параллель ампир садовой решетки и слепые стены островной цитадели, — такой город рискует оказаться метагородом, т. е. образом самого себя, мыслью и грезой о себе самом.
Мы подошли здесь к важной культурно-исторической черте Петербурга: столица на Неве, изначально задуманная на метаязыках наличных мировых столиц, возникает как метагород и Город одновременно. Петербург — город повышенной знаковости (гипер-семиотичности). В своей внешней предметной выразительности он оказывается (в глазах воспринимающего) еще и изображением, «картинкой», т. е. приобретает вид художественного текста или живого организма с чертами самосознания («души»). Двойная знаковая фактура Петербурга (когда город оказывается знаком самого себя) решительно противостоит «естественному» языку Москвы, не порождающему знаков второго порядка.
Черты «изображенного города» усматривает в Петербурге русская литература и публицистика, начиная с Гоголя и Достоевского. Петербург — фантом, призрак, город, таящий умышление против человека (см. деление Достоевским городов на «умышленные» и «неумышленные»), станет устойчивым стереотипом. Урбанистический пейзаж в нашей классике строится как экфразис. Человек Петербурга чувствует себя среди его «гениальных декораций» (А. Чеботаревская) невольном актером в пьесе, которую не он придумал и не он режиссирует. В метагороде не может не возникнуть личностное метасознание на этапе специфично петербургской «истории меня» [7].
Спокойный монументализм Северной столицы обеспечен и другим итогом эклектического творчества: у этого «стиля» нет возраста, когда ему в своей эстетической среде ничего не противостоит. Эклектика бросает свои стилистические рефлексы «безвозрастности» на сколь угодно тонко продуманные вкрапления модерна.

В первой половине XIX в. у Петербурга складывается репутация города отчужденных людей, его социально-психологический климат формируется в космосе «чужих». Отмеченное Пушкиным «недоброжелательство» как отличительная черта петербуржцев не раз комментировалось позднейшей журнальной социологией и литературой — высокой и низовой [8].
Петербург — город-декорация, фасад Империи [9], город-театр, обитатели которого призваны к жестко регламентированному ролевому поведению. «Регулярная» архитектура Петербурга, стилистическая градостроительная пестрота придали Невской столице черты города-компиляции, города-коллекции и города-музея. Только в Петербурге могла родиться мечта Гоголя об улице-ансамбле (архитектурной парадигме, в которой были бы представлены основные стили). Восприятие Петербурга как архитектурной шпаргалки сказалось и на описании иных городов. «Рифмуясь» с зодчеством Запада и Востока, Петербург приучил русских людей и к другим городам подбирать архитектурную «рифму». Ф. И. Тютчеву в 1847 г. Курск напомнил Флоренцию; Н. В. Гоголь, побывав в 1849 г. в Калуге, увидел в ней черты Константинополя, а П. Киреевского Мюнхен навел на воспоминания о Москве.
Каменные одежды Вечного Города, которыми Петербург «предметно» манифестирует конфессионально-имперскую преемственность великих мировых держав, вступали в очевидное противоречие с московскими претензиями на «Третий Рим».
Древнейшая репутация города как памятника цивилизаторского энтузиазма восходит к образам города-блудницы [10], к мифам о богоборческом созидании Вавилона, о греховном опыте первоначального общежития. В архаических текстах град земной выглядит неудачной проекцией горних обителей, так что гибельная его судьба известным образом предрешена. Божьим произволением может воздвигнуться город на святом месте, и тогда жители его могут быть спокойны до тех пор, пока почвенная сила благодати ограждает их от зол. Божьим же попущением возрастает и град мерзости, до времени допущенный к житию.
Репутация Беззаконного Града накапливалась постепенно и ближайшим генетическим образом связана с восприятием Петра I как Антихриста. Беспрецедентная реформация социального уклада, крушение традиционных картин мира и мира религиозных ценностей, резко изменившееся качество исторического времени (оно катастрофически убыстрилось), — эти следствия дела Петрова вполне естественно активизировали архаический стереотип «подменного» царя, государя-самозванца. Мифология самозванства, которой раскольники отреагировали на новации Петра Великого, целиком вошла в ценностный мир новой столицы, отмеченной сатанински чуждым обликом. Герой романа Д. Мережковского «Христос и Антихрист (Петр и Алексей)» (1904) — Тихон, ищущий истины у старообрядцев, узнает в лице Петра демонический облик Петрова Града: «Страшное лицо как будто сразу объяснило ему страшный город: на обоих была одна печать» [11].
На рубеже XIХ-ХХ вв. проблема города, городской среды, городского поведения ставится на широком фоне философских вопросов внутри уже сложившихся триад «культура — цивилизация — природа», «история — природа — город», «космос — цивилизация — человек» и других этого ряда. Авангардистские поиски в области новых языков выражения в искусстве коснулись прежде всего градостроительства.
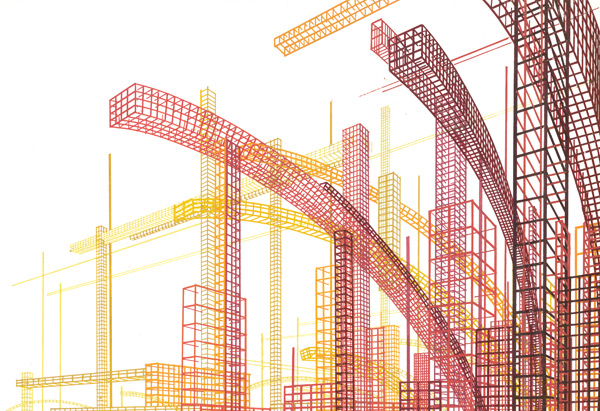
Архитектура на некоторое время становится одним из «самых массовых из искусств». Кубизм и конструктивизм в поэзии и живописи, кино и музыке — производные от нее. Футуристические городские прожекты поэта и философа В. Хлебникова, утопии М. А. Волошина встали в сознании современников в один ряд с проектами В. Е. Татлина и новаторскими композициями Л. де Корбюзье. Утопические варианты мегаполиса следуют один за другим; ничто не кажется неосуществимым. Города космические, подвесные, летающие, подземные, стеклянные, ажурные; города-растения и города-организмы.
Когда-то написать утопию означало предложить модель рационально-организованного и легко управляемого социума. Теперь утопия предлагает прежде всего новый тип города, жилища и новую свободу для городского человека. На другом полюсе резко возрастает критика капиталистического города, литературу наводняют образы городов-молохов, городов-спрутов, городов-убийц. Мировоззренческая традиция типа «URBI EТ 0RBI» (по названию одной из книг В. Я. Брюсова) в первую очередь торопится определить понятия Дома и Мира в векторе «домашности». Если «дом — это место, где жить нельзя» (М. И. Цветаева), то и весь мир — юдоль, а не обитель. Ни одна эпоха не знала такого обострения комплексов бездомности, заброшенности в бытии, как эпоха начала века и в период между двумя мировыми войнами.
Иов богооставленный на пепелище — таков горожанин в начале нашего столетия, в котором мировые столицы сделали все, чтобы человек достиг вершин одиночества в толпе людей, жилищ, реклам, авто, посреди многократно умножившегося мира вещей, в новом континууме безмерно усложнившихся коммуникаций.
В своем торжестве организованного в замкнутый контур пространств Петербург воспитал в петербуржцах особое отвращение к дому — некогда надежному убежищу. Недоверие к домашнему уюту стало специфической чертой городской психологии Петербурга. Со времен Гоголя и Достоевского закрытый топос стал осознаваться как метафизически-криминальное пространство: оно порождает жажду преступного нормотворчества (что и происходит с Раскольниковым). В тесном, огражденном от людей пространстве витает дух убийства, — при этом чувстве мы застаем героя рассказа А. Аверченко: «Только наш неожиданный, призрачный, причудливый Петербург может щегольнуть такой зловещей комбинацией: мрачная, сырая комната без всякой мебели, кроме тяжелого стола, покрытого сырой дырявой скатертью, комната, в которой как будто застоялся запах старого убийства; за окном густая, как кисель, серая ночь, дышащая в лицо тифом, а против меня — тускло освещенный единственной свечкой человек, из опущенных углов рта которого вопияла смертная тоска» [12].
Рубеж веков отмечен чрезвычайно активным ростом новой мифологии; она нова в той степени, в какой вообще миф пытается выглядеть новым в контекстах особой городской демонологии, о праве на существование которой говорил и экономист и писатель А. В. Чаянов: «Совершенно несомненно, что всякий уважающий себя город должен иметь некоторую украшающую его гофманиану, некоторое количество своих домашних дьяволов» [13].

В ХХ в. Петербург вновь — Город гибели и обитель обреченных; пророчества о скорой гибели Невской столицы входят в моду, заполняют страницы ежедневной печати [14]. Осталось очень немного, чтобы вся действительность вокруг горожанина зазвучала голосами Апокалипсиса.
Публицистика первых десятилетий ХХ столетия активно разрушает образ Петербурга как логически упорядоченного космоса. Коль скоро его «целью» объявляется неминуемая гибель, то и историческое его существование теряет смысл. Он начинает восприниматься как псевдологический фантом, город-насмешка, как сатанинская ухмылка императора над здравым смыслом, как безумная попытка преодолеть стихию (природную, национальную, историческую) голым расчетом. В эссе Б. М. Эйхенбаума Северная Пальмира дана в атрибутах беспочвенной и безосновной гордыни: «У Петрограда и нет души — она исторически не потребовалась ему. Петроград пленителен именно своим бездушием — город ума, умысла, так легко поэтому принимающего вид каменного призрака. Он всегда напряженно и рассудочно мыслит. Москва не знает раздумья, не любит рассудком, живет полнотою и разнообразием чувств. Москва — живописнее, тогда как Петроград — чертеж, контур, схема». Петроград не оскудевает людьми, но его культурная атмосфера сильно разрежается и обретает особого рода психологическую напряженность и полуистерическую взвинченность (что можно наблюдать в пряной куртуазности салонов полусвета, богемных кабачках и писательских кафе, литературно-музыкальных салонах, в бытовом мифотворчестве таких петербургских оазисов, как, например, «Башня» Вяч. Иванова). Поверим автору, когда он сравнивает «культуру подвалов» двух столиц. Если на берегах Невы царит атмосфера элитарной утонченности и сомнительного в своей экзальтации краснобайства, то Москва находит формы ярмарочно-балаганной арлекинады, превратившей камерное пространство салона в угол городской площади. Припоминая о кафе Н. Ф. Балиева «Летучая мышь», Б. М. Эйхенбаум констатирует: «Напряженно-рассудочная жизнь столицы легче и интереснее приобретает формы гротеска. Здесь нет того ядовитого алкоголя, который знаком посетителю петроградских подвалов <...>». Завершается эссе в классических интонациях Пушкина, Гоголя и Тютчева: «Да, Россия без Москвы немыслима. Да, в Москву, как и в Россию, можно, но и нужно верить. И Москве нужно только одно — чтобы ее любили. Петроград — стройный, строгий. Он нужен России, он — деловой. Москва — наша роскошь, где душа богата непосредственным размахом национальных сил <...>» [15].
Мифология города — большая и серьезная тема; мы не будем здесь уточнять ее контуры. Отметим только, что диада «цивилизация/культура» имеет свои мифологические корреляты. Существует мифология культуры; одна из ее форм — так называемое «жизнетворчество», — осуществляемый, в частности, символистами тип поведения, в соответствии с которым быт обращен в театрализованную игру.

Возникает множество концепций игры-жизни (А. Н. Скрябин, Н. Н. Евреинов, А. В. Луначарский). Город в философских трактатах и литературе авангарда наполняется персонажами карнавала, трагической клоунады, масками жизненной арлекинады, которые предвидел Д. Дидро, героями мировой демонологии. Рождаются свои мифологические монстры, вроде Недотыкомки из «Мелкого беса» Ф. К. Сологуба.
Люди, как во времена классического романтизма, чувствуют себя внутри гигантского романа [16]. Это жизнеощущение стало, помимо прочего, формой бегства от города и его контрастов. Итогом подобного мифотворчества оказывается медленное и тяжелое трезвение, когда город вновь вплотную подходит к человеку и заглядывает в него пустыми глазницами фабричных окон. Мифологический наркоз — прямые издержки городского отчуждения человека.
Выполняя компенсаторную функцию, мифология города создает и празднично облегченный, и трагический, а чаще — апокалиптический образ невозможной на земле жизни. Город как апофеоз власти Князя тьмы и его зловещих вестников — тема эссе Д. Мережковского. Феофан Прокопович, напоминает он читателю, «называл Петра I Христом, а раскольники называли его "антихристом". Петербург и есть та "вечная дыба", на которой пытают: "Христос или Антихрист?"» В «Призраках» Тургенева (1864) Мережковский нашел близкий эсхатологическому настроению ХХ века «громадный образ закутанной фигуры на бледном коне», что «"мгновенно встал и взвился под самое небо". Тут, конечно, Тургенев вспомнил Апокалипсис: "И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, имя которому смерть"». «Несколько лет назад, в один морозно-ясный день, полыхали над Петербургом какие-то бледные радуги, похожие на северное сияние <...>. Когда я смотрел на эти знамения, то казалось, вот-вот появится "конь бледный и на нем всадник, имя которому смерть"».
1917-1918 годы — время особенно острого переживания финала петербургского периода. Искусствовед и архитектор Д. Аркин публикует текст с многозначительным заглавием: «Град Обреченный». На символистском жаргоне со ссылкой на эссе Вяч. Иванова «Лик и личины России» (1917) говорится о сведении в облике Петербурга «Руси Аримановой» (что означает здесь «Восток», «Хаос», «Природа») и «Руси Люциферовой» (соответственно: «Запад», «Космос», «Логос»). «Образованный этими двумя стихиями, не включающий в свое существо чего-то третьего, что именно и есть единственная и подлинная сущность русской души, Петербург — вне святой Руси <...>. В этом разгадка его страшного одиночества, его отторженности от живого тела России: в этом — разгадка того противления идее Петербурга, которое проходит через все русское творчество <...>» [17].
Три с лишним столетия Петербург своим внешним обликом несет традиционному сознанию нечто принципиальное новое, что нередко воспринимается враждебным привычному укладу жизни. Новации Петра и немногих его единомышленников вызвали у византийски благолепной Москвы состояние социального шока.

Понадобился авторитет императорской власти, чтобы реформы осуществлялись на деле. Рост новой столицы как бы контрагентен Москве, при том, что одна из частей города носит название Московской, а площадь с торговыми рядами вокруг Троицкой церкви на Городском острове воспроизводит старомосковскую композицию. Линейный Петербург внешне выглядит как антиМосква. Длительное время Петербург «перекачивает» интеллектуальную энергию древнего центра, чтобы на новом месте возникло столь необходимое для эволюции культуры «противослово», своего рода культурно-диалогическая оппонентура, альтернативная национальная характерность.
Петербург уникален тем, что он возникает в лабораторных условиях государственного эксперимента. Это зодчество, открытое всем направлениям; геометрия прямых, уходящих в бесконечность; законотворчество для принципиально нового народа; воздвиженье Нового Вечного Града наперекор стихиям и здравому (т. е. московскому) смыслу; сакрализация власти при десакрализации церкви; иной отсчет времени и качественное переосмысление истории; модернизация гражданского шрифта и превращение сухопутного народа в морской; ломка кровно-родственных привилегий и воспитание в нации родства с Европой; научение новому пространственному видению в искусстве и в исторической перспективе; выведение научной мысли из схоластической стагнации на простор созидательного энтузиазма; выращивание новой породы людей, совмещающих глубокую безнравственность в быте с высоким патриотизмом и доблестью гражданина Империи, а рядом с этим — потешная евгеника и кунсткамера раритетов, — все это сложно переплетается в характере новой столицы, города на Неве — Санкт-Петербурге.
* * *
Культура существует, пока живет диалог позиций. Историческая функция мировых столиц — собирать, прояснять, запоминать и генерировать культурное многоголосие нации и человечества. Не только в столицах сосредоточиваются культуротворческие силы народа, но именно в них определяются стратегии духовного развития. Москва и Петербург — центры исторического самосознания.
Каждая из столиц накапливает свой ценностный мир, строит свою мировоззренческую позицию, определяет свою меру диалогической активности. Взятые порознь, наши отечественные метрополии демонстрируют крайние точки той амплитуды идеологических и эстетических предпочтений, в пределах которой русская мысль совершает свой выбор, создает свою мифологию, образ жизни и национальное поведение, а нация в целом — свой способ самоопределения в принадлежащем ей историческом пространстве.
Диалог стал способом внутреннего духовного роста: глядя друг на друга, два мировых города создали ситуацию культурного агона и не лишенного азарта культурного соперничества, в котором ревность одного города к другому в результате обернулась соревновательным просветительством, а конъюнктурный пересчет приоритетов пошел в пользу общего дела.
Столицы отечества осознаются в роли осевых нитей, проходящих сквозь миры «Византия / Азия», «Восток / Запад».
Национальное сознание утвердилось на том, что если Петербург считает Москву византийско-азиатским захолустьем, то и Москве не зазорно видеть в Петербурге европейскую провинцию. И наоборот: раз Москва есть духовная родина великой державы и хранительница древней славы отечества, то Петербургу пристала роль цивилизаторского представительства России на Западе.

Эти предельно упрощенные формулы с трудом охватывают лишь поверхностные аспекты диалога. Суть его в другом — в двуголосом самообнаружении национального сознания. Диалогическая голосовая открытость в пространство мировой культуры отразилась в том качестве русского характера, которое Достоевский определил как «всемирную отзывчивость».
Русский характер — еще один результат двуголосой московско-петербургской культуры. Яркая общительность и углубленная сосредоточенность, бескорыстный артистизм и любовь к крайностям, универсальная открытость миру и спокойное сознание своих возможностей, фантазерство в сочетании с исторической надеждой — все эти свойства русского человека закреплялись в диалоге столиц.
С формированием в русской культуре межстоличного диалогизма происходит важный историко-психологический процесс: возникает новый тип городской личности, который характеризуется непредсказуемым сочетанием несочетаемых ролей, например, гуляки и одинокого мыслителя, салонного краснобая и мизантропа, аскета-мистика и домашнего гаера, радикала и консерватора и т. п. Характер горожанина перерос социальную знаковость ролевого поведения и вошел в конфликт с сословно-ролевой иерархией общественного этикета. Петербург, задуманный как идеал регулярного мегаполиса, стал источником иррациональных мотиваций в поведении наследников Петрова Града: ни в одной географической точке Империи человека не охватывало с такой полнотой чувство неосознанной тревоги, непрерывно растущего внутреннего напряжения, той особенной городской меланхолии и затерянности в пустом холодном мире, которое стало эмоциональной основой для своего рода «петербургского экзистенциализма». Можно сказать, что «философия города» (словом «философия» мы обозначим здесь не систему взглядов, а способ выразительной рефлексии) становится как бы привычным состоянием активно бодрствующего и подстегиваемого внутренней тревогой человека. Это состояние точно зафиксировал неутомимый наблюдатель психологии горожанина Ф. Б. Булгарин: «Петербург именно город философский: каждую минуту припоминает вам непрочность и неверность всего земного <...>» [18].

Диалог Москвы и Петербурга происходит в форме взаимных интерпретаций, это диалог зеркал, в каждом из которых с большей или меньшей достоверностью мы видим отражение оппонента. Московский образ Петербурга, петербургский образ Москвы (образы их обоих из периферийной глубины) порождались в отношениях обмена культурной информацией.
Обратной стороной внешнедеятельного, бодрого петербургского типа стала загнанность вовнутрь его природной публичности и потребности в непрерывном самовыражении. Формой внешнего проявления обитателя Невской столицы стало социальное лицемерие с незаметным переходом его в общественный самообман. Отношения людей уподобились театру, столь уместному в городе-декорации. Но ценой этой игры в жизнь стала непомерная доля отрицательных эмоций в повседневном быте горожанина. Природные привычки созерцательности и безотчетной рефлексии преобразовались в русском характере в чувства гнетущей тоски, безнадежности, круговой поруки отчаяния. Великолепный град фасадной Империи обратился в золотую клетку. Но он же оказался для русских путешественников зоной сильнейшего притяжения, хотя именно Петербург породил специфическую эмоцию «ностальгии наоборот»: тоску по Европе — духовной родине. Петербург не отпускал от себя человека, однажды заглянувшего в его каменную душу; он обладал и обладает жутковатой, трагической притягательностью. Поэтому отечественные публицисты говорят так часто о трагическом облике Петербурга. О мучительном городе пишут А. И. Герцен и Ф. М. Достоевский, в ХХ в. традиция переходит к Г. П. Федотову, который в статье «Три столицы» размышляет о «трагической красоте» Петербурга, а Н. П. Анциферов суммирует трагедийный финал петербургского периода русской истории в формуле «трагический империализм». Сдержанный трагизм русского существования компенсировался неизбывным московским оптимизмом. Сказанное не следует понимать так, что Москве достался удел города дон-кихотов, а Петербургу — города гамлетов; роли могли и меняться. Петербургский эксперимент по отчуждению личности объективно нуждался в источнике национального нравственного здоровья, — и он получал его в диалогическом окликании древней столицы. При этом Петербург остается для России центральным источником интеллектуальной энергии и инициатором аксиологических новаций эпохи. Люди Невской столицы — от обывателей до насельников Академии наук с надеждой предстоят своему будущему в полном свете исторического дня.
Человеческим аналогом Св. Духа, метафизическими вестниками и медиумами национального здоровья являются в мир эти сгущения гениальной рефлексии, зодчие ценностных иерархий, Третья стража ноосферы. На них сбывается завет культурного преемства.
В этом состоит центральный вызов Петербурга Urbi et Orbi.

Примечания
- У Достоевского герой «Униженных и оскорбленных» говорит: «Нет ничего приятнее, как жить с дураками и поддакивать им: выгодно!». Ср.: «Счастливей всех шуты, дураки, сущеглупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются» (Эразм Роттердамский. Похвальное слово Глупости. Гл. 38. М.; Л.: Academia, 1931. С. 99; перевод П. Губера). См. Reyfman Irina. Vasilii Trediakovsky The Fool of the «New» Russian Literature. StanfordUniv. Press, 1991.
- Поршнев Б. Ф. Контрсуггестия и история (Элементарное социально-психологическое явление и его трансформация в истории человечества) // История и психология: Сб. статей. Л., 1971. С. 7-35.
- Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1978-1984. Т. VI. С. 280.
- Встреча — это Акция имманентного обмена высшими ценностями; диалогический принцип, определенный Вяч. И. Ивановым как «апантетический принцип» сознания (от греч. anavxn^a — 'встреча', 'выход на встречу', 'сретенье': Иванов Вяч. Сентенции и фрагменты // Русско-итальянский архив. Вяч. Иванов. Новые материалы. Салерно, 2001. С. 142). Существует универсальное представление о жизни как актуальной возможности Встречи. Встреча — не плановое рандеву, ее ценность подчеркнута ее вероятностной природой и непредсказуемостью итога. Она вне антитезы «свидание/расставание» и включена в другое смысловое поле — участия или неучастия в ней: она всегда «есть», но «моя Встреча» должна быть осознана внутри жизненного бытия-события и как факт самосознания. В. — это интеллектуальная (религиозная) катастрофа или философское приключение, которое может выглядеть как звено в ряду биографических событий, но смыслом своим принадлежит иному, над-биографическому, типу каузальности: благодати, сакральной инспирации, чуду, Божьему дарению. В. осознается символически («Сретенье»), за пределами овнешняющих обстоятельств быта и истории. Поэтому она может быть поставлена в аналогию с вечным событием мифа, вещим указанием сна, профетическим намеком оракула или сакральным событием литургии. В ряд уподоблений встает и ритуальная инициация, которая и является «внутренней формой» Встречи. См. Антоний, митр. Сурожский. О Встрече // Новый мир. М., 1992. № 2. С. 184—191; Арсеньев Н. С. Мистическая встреча // Н. С. Арсеньев. О Жизни Преизбыточествующей. Брюссель, 1966. С. 65-68; Клеман О. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Тексты и комментарии / Пер. с франц. М., 1984 (Ч. 1, гл. 1. Поиск, встреча, решении). С. 17-26; Франк С. Л. Крушение кумиров Гл. 5 — Духовная пустота и встреча с живым Богом //Франк С. Л. Соч. М., 1990. С. 161-182.
- Ежемесячные сочинения... Март. 1755. С. 215.
- Цит. по кн.: Петербург в русской поэзии XVIII — нач. ХХ вв. Л., 1988. С. 36, 43.
- Федоров А. А. «История меня»: Традиции европейской философской мистики и строительство персональных миров. СПб., 2006.
- «Черта радушия — вовсе не петербургская», — отмечает А. Ишимова (Ишимова А. Каникулы 1844, или Поездка в Москву. СПб., 1844. С. 27); «Никто тебя не замечает», — жалуется герой очерка Я. Каронина (Каронин Я. Путешествие внутрь страны // Отечественные записки. 1871. Т. 195. № 3/4. C. 420); петербургский щеголь из повести М. Загоскина замечает, что «гостеприимство есть добродетель всех непросвещенных и варварских народов <...>» (Загоскин М. Н. Избранное. М., 1988. С. 185-186).
- См. спор Ф. Достоевского с де Кюстином по этому поводу в «Петербургской летописи» (1847); там же — о Москве и Петербурге (Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 30 т. Л., 1978. Т. 18. С. 2527, 111).
- Топоров В. Н. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Структура текста-81. М., 1981. С. 53-58; Франк-Каменецкий И. Г. Женщина-город в библейской эсхатологии // Сборник, посвященный С. Ф. Ольденбургу. Л., 1934.
- Мережковский Д. С. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. 379. Т. 2. С. 379.
- Аверченко А. Шутка мецената // Дружба народов. 1990. № 4. С. 111.
- Муравьев Вл. Творец московской гофманианы // Чаянов А. В. Венецианское зеркало. Повести. М., 1989. С. 19.
- Рославлев А. Гибнущие ризы // Наш век. 1918. № 50; Зозуля Е. Гибель главного города // Вечерняя Звезда. 1918. № 5. Ср.: Рысс Петр. Петроград // Современное слово. 1917. № 3369 (29 июля). С. 6; Богданович Т. Санктъ-Питербурхъ // Современное слово. 1918. № 3507. С. 2; Ауслендер С. Хвала Петербургу // Новости дня. 1918. 16 апреля. (17/4 марта). С. 3.
- Эйхенбаум Б. М. Душа Москвы // Современное слово. Январь 1917 г. Переизд.: Москва — Петербург: Pro et contra. СПб., 2000. С. 365-372; Филологические записки. Воронеж, 1994. Вып. 3. С. 149-159.
- «Символизм в поэзии — дитя города. Он культивируется, и он растет, заполняя творчество по мере того, как сама жизнь становится все искусственнее и даже фиктивнее. Символы родятся там, где еще нет мифов, но где уже нет веры. Символам просторно играть среди прямых каменных линий, в шуме улиц, в волшебстве газовых фонарей и лунных декораций. Они скоро осваиваются не только с тревогой биржи, но и зеленого сукна, но и со страшной казенщиной какого-нибудь парижского морга, и даже среди отвратительных по своей сверхживости восков музея» (Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 359).
- Аркин Д. Е. Град Обреченный (1918) // Москва — Петербург: pro et contra. Диалог культур в истории национального самосознания. Антология / Сост., вступ. ст., ком. К. Г. Исупова. СПб., 2000. С. 361.
- Северная Пчела. 1845. № 249. С. 992.
Universum: Вестник Герценовского университета. 3/2012. Материалы первого Санкт-Петербургского Международного культурного форума «Urbi et Orbi»





















